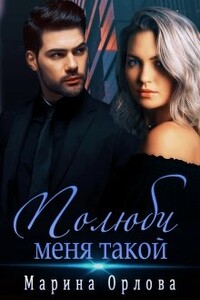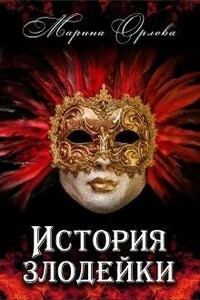Когда в призывном пункте мне выдали униформу, я несколько часов любовался её безупречной новизной. Я был так горд, ведь я буду защищать Родину, воздвигну памятник её величию, понесу свет культуры в далёкие земли диких, варварских народов.
Через пару лет я осознал, что добровольно бежать в пункт призыва было не самым умным моим решением. Однако я всё ещё стирал униформу после каждого боя, стараясь оттереть грязь и пятна крови, – ведь защитник Родины должен выглядеть представительно.
Сейчас я уже забросил это бессмысленное занятие. Кровь всё равно не отстирывается. Да и кому какое дело до моей униформы? И так всё понятно.
Также ясно, что войну мы проиграли. А мне всё равно. Допустим, выиграли бы – и что? Я бы вернулся домой, получил причитающиеся мне ордена, лёг на диван и смотрел в потолок. Может, устроился бы на работу… ну хотя бы молочником. Развозил бы молоко по утрам, управляя таким миленьким белым фургоном. Улыбался соседям, делая вид, что всё в порядке. Знаете, ведь ничего не было. Никакой войны, никаких бомбёжек, никаких мертвецов под ногами. Всё это мне приснилось. Ну, и соседи бы улыбались в ответ. Может, в этот самый момент они кого-то подвешивают на ближайшем фонаре. А потом, через год, мы бы улыбались друг другу по утрам. Ой, а вы помните, как та мамзель забавно дрыгала ногами, когда мы её вешали? Ой, такая была умора! И мы бы весело смеялись.
К чёрту это всё. Наверное, даже хорошо, что проиграли. У меня есть вполне официальный повод сдохнуть. Возвращаться я точно не хочу. Победители (те самые дикие варвары) меня или повесят (не самая приятная смерть), или расстреляют (так я и сам могу), или будут публично судить (скука, скука… хотя унизительно, чего скрывать). Ни один из этих вариантов меня не устраивает.
Многие из наших ещё верят, что не всё потеряно. Согласен, некоторый шанс есть. Теоретически чудо ещё возможно. Но я-то нутром чую, к чему всё идёт: нас всех ждёт прямая дорожка в ад. И меня, конечно. Понятно, что мы тут не занавески вышиваем. Мы – убийцы. И я в том числе.
Вот в детстве было хорошо: не было никакой войны, а были только мама, папа и бабушка. Они меня любили. Бабушка каждое воскресенье водила на проповедь. В городском соборе было сумрачно, холодно, и с каждой стены на меня осуждающе смотрели суровые мужчины. А потом на кафедру поднимался священник – высокий и сухой, вполне под стать собору – и громко рассказывал о наказании, которое ждёт грешников. Я очень боялся согрешить. Ни в коем случае нельзя было отлынивать от работы, долго спать по утрам, врать родителям, есть много конфет и падать в уныние. Я тогда не очень понимал, как в него можно упасть, и от этого боялся ещё больше – а вдруг я упаду и даже не замечу этого?