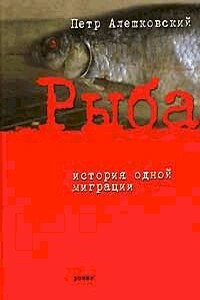1
Папа с мамой мои были геологи. Их долго носило по стране, пока не
‹закинуло в Таджикистан, в город Пенджикент. Мы жили на русско-татарской улице имени Зои Космодемьянской. Улицу таджики не любили, и, как я теперь понимаю, правильно. Здесь пили запрещенный
Кораном портвейн, не копили денег, напрягая все жилы на громкоголосый туй-писар, праздник из главных – обрезание мальчика, когда кормили пловом несколько сотен обязательных по такому случаю гостей.
За три дня туй-писара сжигалось накопленное именно для этого праздника богатство. Так горит легкий хворост в печи. Пых-пых-пых, отшумел огонь под казанами, женщины утерли пот и принялись отмывать котлы от застывшего жира, впившегося в темный чугун, как весенний лед в скалы. Я видела такой лед на перевале Даштиурдакон, когда мы ходили в поход с пионервожатой.
Мама нанималась убираться на такие праздники: после гибели папы в горах нам всегда не хватало денег. За подработку на праздниках давали “приклад” – остатки пиршества. Мы с мамой ели плов целую неделю. Разжаренный на хлопковом масле рис я до сих пор не люблю: только подумаю, ощущаю изжогу. Таджики смотрели на советский геологический сброд нашей улицы, как на наметенный ветром песок, как на готовые сорваться в любую сторону клубки перекати-поля. Они терпели нас, как терпят ненастье. Русские платили таджикам ответной нелюбовью. Таджики казались нашим богачами и баями – у них была своя земля.
Сейчас я понимаю: никакого богатства не было. Богатые туй-писары, что справляли начальники, мы видеть не могли: за заборами-дувалами в старых кварталах текла жизнь совсем иного покроя. Часть ее выставлялась напоказ – пузатые мужики просиживали свой век в чайхане, налитые кайфом, как мускатные виноградины на солнце.
Таинственное пряталось в масляных глазах – суженные зрачки, как галька в текущем с ледника Зеравшане, держали холод, а чисто промытая кожа лица источала страшное сияние. Я, девочка, боялась этих лиц больше, чем висящих у пояса острых ножей-пичаков, которыми, рассказывали, чуть поправив лезвие на ремне, легко было брить головы, как завещал им их Мухаммед.
Мы, космодемьянские, всегда двигались, всегда размахивали руками, всегда что-то рьяно доказывали и, не стесняясь, прилюдно ругались.
Наши девчонки заплетали две косы, их – много-много. Мы играли в лапту, в волейбол, в штандер-стоп, а не в “ошички” бараньими косточками и не кричали, взвизгивая от восторга на весь школьный двор: “Конь!”, “Бык!” – в зависимости от того, на какую грань упал маленький отполированный астрагал. Мы были ласточки у обрыва реки, они – даже не орлы в небе, а те еле видные тени нагретого воздуха, дрожащие и полные тугой силы, что поддерживают орлиные крылья на высоте.