
Время царей
- Автор: Лев Рэмович Вершинин
- Жанр: Исторические приключения
- Год: 1998
- Всего страниц: 224
- Статус: Полная версия
В возрасте тридцати четырех лет безвременно скончался Царь Царей Александр Македонский. Созданная им огромная империя – лакомый кусочек для многих, считающих себя вправе претендовать на оставленное Великим наследство.
Читать Время царей (Вершинин) полностью
Подобные книги
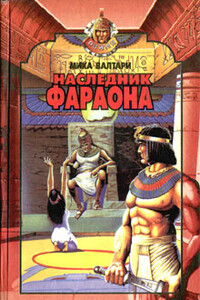
Наследник фараона

Перекрёсток

Возвращение короля

Несущие смерть. Стрелы судьбы
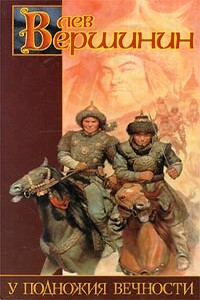
У подножия вечности
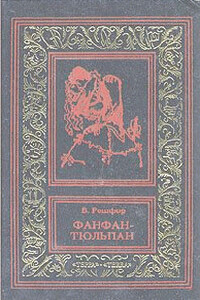
Невероятные приключения Фанфана-Тюльпана. Том 1

Ватерлоо Шарпа

Приключения Питера Джойса

Возмутитель спокойствия
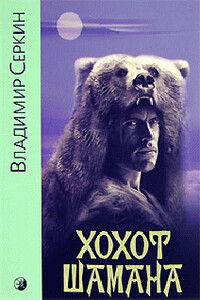
Хохот шамана

Искусство коммуникации в сетевом маркетинге

Мальчик на качелях

Ты - миллионер