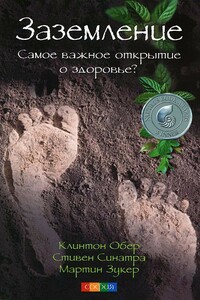Когда умрешь, ничего не должно болеть. А я умер. Почему же так больно.
Прошло сто лет. Или сто семьдесят, или тысяча.
Как, оказывается, хуево на том свете. Точнее, теперь это «этот» свет. Точнее, тьма. Еще столько же, или втрое больше.
Интересно, почему я думаю. Наверное, это тоже наказание. Странно. Я – это кто.
Минута – или геологическая эра. Или астрономический день. Или День Брамы.
Кто я. Странный вопрос. Я – это то, что думает в темноте. Хотя есть мысли, и есть темнота. И все. Кто же их тогда думает.
Еще столько же.
А, понял. Надо же, как просто.
Еще сколько-то.
Значит, если хочешь быть – надо, чтоб стало время. Получается, я хочу быть? Я, кажется, уже был…
Еще немного. Или много. Там это без разницы – много, немного…
Выходит, хочу. Че-то темно. Свет.
И стал свет. И время, и Земля, и Солнце, и крохотный грязный поселок на берегу огромного свинцового озера; и едва различимый запах крови, гари и пороха, долетающий с заката.
– Эй! Яхья-бабай! Твой вонючий маймун проснулся, ползет! Иди лови его, пока не уполз! Выпалив это, сунувшийся в двери пацанчик сморщился и исчез, прихлопнув дребезжащую дверь. Сразу несколько баб, мездривших вонючие шкуры, вскочили и пронзительно заорали ему вслед; им яростно ответили работающие ближе к дверям – в спины здорово несло из сеней, октябрь нынче задался более смахивающим на декабрь, разве что снега все нет. В этой избе проблема «закрыть-оставить приоткрытой» всегда вызывает напряг – дальним от входа невозможно дышать, ближним дует в натянутые поясницы и обветривает руки до сеточки кровавых трещин. Старик в ветхой солдатской шинели поднялся и осторожно пробрался сквозь разгорающуюся перепалку. Было заметно, что он опасается женщин, хотя все очень вежливо давали ему пройти.
Выйдя на улицу, старик зябко поежился, заворачивая поплотнее старые мослы ветхой рваниной; не поднимая головы, машинально поискал солнце – нету. Давно уже нет солнца, недели две? Больше…
Когда были русские, по тилявыср нарядная кызым говорила, что «фронт» или «цыклон». Она не понимала, что говорила, и те, кто научил ее так говорить – тоже не понимали, но все равно подучивали красивую кызым произносить пустые слова; урысы почему-то думали, что все знают. При этом не знали совсем ничего, даже самых простых вещей – что те же облака, застилающие солнце ТАК долго, делаются людьми. Нелепо – сами же рассказывали про фронт, и сами разводили руками…
Старик знал, что такое фронт. Сначала Волховский, потом, уже после госпиталя, следствия и тюрьмы – Четвертый Украинский. Потом еще Салехардский, и перед самым освобождением лагерный опер накрутил еще чирик. Старик не сердился на опера, молодого нервного белоруса, тот закрывал срочное требование по контингенту на Базу-10, очередной фронт старика. Правда, фронтами это звали, лишь насмешливо обозначая масштаб потерь, потери там были действительно почти как на фронте, но жизнь гораздо хуже.