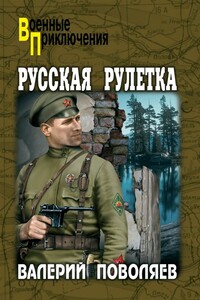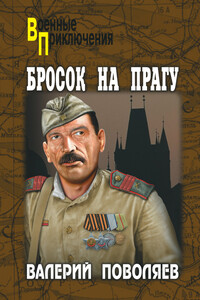В ту темную зимнюю ночь Оренбург был накрыт звездопадом. Черное небо сделалось пестрым от несмети ярких брызг, вдруг вспыхнувших над головами и стремительно понесшихся вниз, к земле, расчеркивая весь небесный полог длинными, режущими глаз линиями. Обыватели просыпались встревоженно и приникали к окнам: к чему бы такой звездопад, а? Что он означает, что сулит?
Одни считали, что это знамение — к добру, другие — совсем наоборот. Народ разбился на половины, не согласные друг с другом… Ясно было одно — надо ждать перемен. Только вот каких? Перемен к лучшему никто уже не ждал: в сведениях, приходивших с полей русско-германской войны, было много неутешительного. Оренбуржцы в изменения не верили и опасливо переглядывались друг с другом:
— Неужели нам немаки все-таки завернут салазки?
Германцев в ту пору вся Россия дружно звала немаками: «немки» и «немаки».
На фронте шли непонятные волнения. Вести об этих волнениях в тыл привозили дезертиры. Их отлавливали, иногда, если они оказывали сопротивление, клали на землю выстрелами из казачьих карабинов, потом зарывали за кладбищенской оградой в наспех выкопанных неглубоких могилах и не ставили там никаких столбов. Дезертиры все чаще и чаще появлялись в Оренбурге…
В мире происходило нечто такое, чему не было объяснения.
На следующий день после звездопада оренбуржцы поспешили в «брезентовый цирк» — туго натянутый шатер-шапито, поднявшийся недалеко от войскового собора. Устроители цирковых представлений обещали показать казакам настоящий «судебный поединок» — старую забаву, драку, корнями своими уходившую едва ли не к поре Рюриковичей. «Брезентовый цирк» был полон.
Знатоку и ценителю отечественной истории войсковому старшине Дутову, «судебный поединок» был интересен не столько выяснением, кто кому расквасит нос, сколько техникой, — наполовину, а пожалуй, что и на две трети забытой техникой кулачного боя. Дутов понимал толк в кулачных боях: в молодости, случалось, и сам участвовал в потасовках, когда в степи, засыпанной снегом, одна ватага с громкими криками надвивалась на другую.
Войсковой старшина сидел угрюмый, наклонив коротко, чуть ли не наголо остриженную голову и положив руки на старую шашку, будто на клюку. Судя по темному цвету его сильного, какого-то медвежьего лица и непонятной острой печали, застывшей в проницательных глазах, был он чем-то озабочен.
Мимо по проходу проследовали два кадета, при виде Дутова испуганно вытянулись, прижали ладони к бедрам, перешли на строевой шаг, затем исчезли в сумраке, видимо, усевшись на одну из лавок, поставленных вокруг небольшой, засыпанной опилками арены.