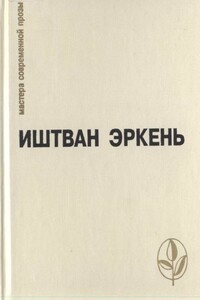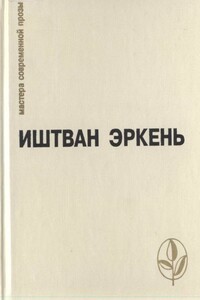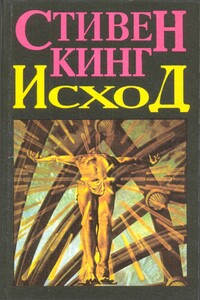Вечером Маттис оглядел небо. Туч не было. Тогда он сказал Хеге, своей сестре, чтобы подбодрить ее:
— Ты как молния.
Произнося это слово, он все-таки вздрогнул, хотя и не испугался — небо-то было чистое.
— Это я про твои спицы, они сверкают как молния, — объяснил он.
Хеге равнодушно кивнула, не переставая вязать. Спицы так и мелькали у нее в руках. Она вывязывала сложный цветок с восьмью лепестками, скоро он будет красоваться на спине у какого-нибудь парня.
— Понятно, — только и сказала она.
— Я ведь тебя хорошо знаю, Хеге.
Он тихонько водил пальцем по колену, как всегда, когда о чем-нибудь размышлял. Туда-сюда, туда-сюда. Хеге уже давно перестала просить, чтобы он бросил эту дурную привычку.
Маттис продолжал:
— Ты не только вяжешь, ты все делаешь как молния.
— Может быть, — отмахнулась она.
Маттис, удовлетворенный, умолк.
Он не мог удержаться от соблазна произнести слово «молния». Стоило ему произнести это слово, и мысли в голове начинали бежать в необычном направлении, так по крайней мере ему казалось. Самой-то молнии он боялся до смерти и летом в душную облачную погоду никогда не произносил этого слова. Но нынче вечер выдался тихий и ясный. Весной уже было две грозы с оглушительными раскатами грома. Обычно, когда грохотало особенно сильно, Маттис прятался в маленькой деревянной уборной — когда-то ему сказали, что в такие домики молния не ударяет. Касалось ли это правило всего мира, Маттис не знал, но в их краях, на его счастье, оно до сих пор действовало безотказно.
— Да-а, как молния, — бормотал он, будто бы продолжая обращаться к Хеге, которая нынче не была расположена слушать его неожиданные похвалы.
Но Маттис еще не выговорился.
— Я хотел сказать, что и думаешь ты тоже как молния.
Хеге быстро подняла глаза, точно опасаясь, что сейчас он коснется опасной темы.
— Хватит уже на сегодня, — холодно и недружелюбно сказала она.
— Что-нибудь случилось? — спросил он.
— Ничего. Сиди спокойно.
Хеге спрятала подальше то, что чуть не вырвалось наружу. Придурковатость брата особенно огорчала ее, когда он произносил слово «думать», тогда ей становилось больно и она падала духом.
Маттис заметил это, но объяснил ее недовольство тем, что он не работает, как все люди, из-за чего, правда, его вечно грызла совесть. И он завел старую песню, к которой они оба уже давно привыкли:
— Завтра ты должна придумать мне какую-нибудь работу. Так больше нельзя.
— Хорошо, — сказала она в пространство.
— Мне это надоело. Я не зарабатывал уже…
— Да, ты уже очень давно ничего не зарабатывал, — вырвалось у нее невольно резче, чем следовало.