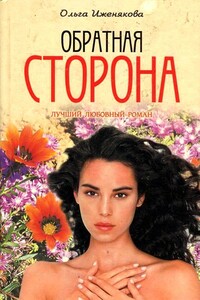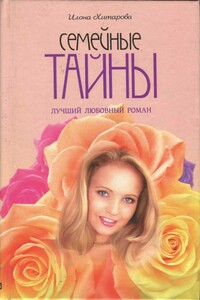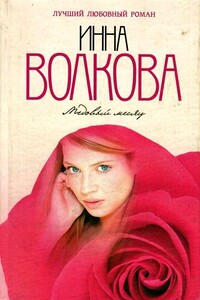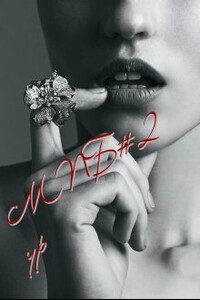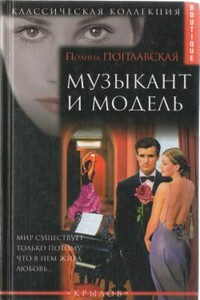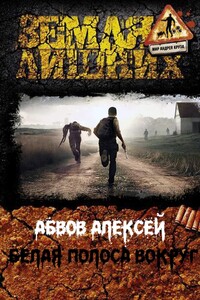Врач сказал, что операция будет довольно сложной и мне надо серьезно к ней подготовиться: составить у нотариуса завещание, отнести кота, рыбок и комнатные цветы родителям или друзьям, прибрать все личные вещи и… не волноваться. Последнее может только усугубить мое нынешнее состояние, а это сейчас крайне нежелательно.
Я молча слушаю. В ординаторской открыто окно, и ветер нервно, совсем по-человечески теребит шторы. «И пожалуйста, не забудьте подстричься, — заключил медик, — желательно очень коротко. Все равно вам перед операцией голову побреют. Так что постарайтесь хотя бы немножечко облегчить нам задачу и подготовиться сами. Да, и не задерживайтесь утром, а еще лучше, если вы придете чуть раньше…»
В коридоре поликлиники непривычно тихо. Я иду по бледно-желтому линолеуму, который только что помыли хлоркой, мой тридцать девятый быстро делает отражения-отпечатки. Раз-два, раз-два. Новенькие туфли выгодно подчеркивают стройные бледные ноги, я бы сказала даже худые, но не скажу. Надо себя любить. Хотя бы теперь, накануне, а потом…
О, как я не права! Если я буду где-то, пусть и вне тела, значит, там тоже будет любовь. Я почему-то в этом уверена. Иногда. Что за странность? Уезжать из родного гнезда в семнадцать, безнадежно ломать свою жизнь среди чужих людей, а потом удивляться, почему в больнице никто не навещает. Да очень просто. Не нужна я в этом мире ни-ко-му, кроме одного маленького человечка, который уверен, что я повелеваю звездами, людьми, машинами, ветрами, бурями, и вообще всем, что есть в этом огромном мире. Он меня называет мамой, а я его — своим сыном.
Я — Арина Райдер, двадцатипятилетняя, безнадежно больная журналистка.
Природа прощается со мной как может. Холодный ветер забрасывает меня мертвыми листьями, придорожным мусором.
По дороге несутся грязные машины. Мчатся, будто торопятся изо всех сил на тот свет. Я их понимаю — этот не слишком привлекателен. Иду медленно. Сегодня я последний раз иду по этой тропинке. Редкие прохожие удивляются моей медлительности. Зачем, спрашивается, подолгу смотреть, да еще так внимательно, на окружающую серость? Отовсюду проступает густой мрак. Так бывает только ранней весной или поздней осенью.
По правде сказать, я всегда серости боялась. Еще в детстве меня пугала сама мысль стать таким же потребителем, как все, целыми днями тупо смотреть телевизор, выбивать коврики на детской площадке, запасаться вареньями-соленьями на зиму с таким остервенением, как будто на всю оставшуюся жизнь. И жить, как живут все вокруг, ну или почти все, — сезонами редиски.