
Рождение ньюйоркца
- Автор: О Генри
- Жанры: Юмористическая проза / Классическая проза
- Год: 1905
- Всего страниц: 5
- Статус: Полная версия
«Горящий светильник» (1907) — один из лучших авторских сборников знаменитого американского писателя О. Генри (1862-1910), в котором с большим мастерством и теплом выписаны образы простых жителей Нью-Йорка — клерков, продавцов, безработных, домохозяек, бродяг… Огромный город пытается подмять их под себя, подчинить строгим законам, убить в них искреннюю любовь и внушить, что в жизни лишь деньги играют роль. И герои сборника, каждый по-своему, пытаются противостоять этому и остаться самим собой. Рассказ впервые опубликован в 1905 г.
Читать Рождение ньюйоркца (Генри) полностью
Подобные книги

Горящий светильник
![Эльза в Нью-Йорке [= Алиса в Нью-Йорке] - О Генри](/uploads/books/images/37/374444f22cb6174df2e428d1ed980684ae9286ac.jpg)
Эльза в Нью-Йорке [= Алиса в Нью-Йорке]

Закупщик из Кактус-Сити

Последний лист

Комната на чердаке

Младенцы в джунглях

Поросячья этика

Санаторий на ранчо

Гадалка

Памяти Джона Ингерфилда и жены его Анны
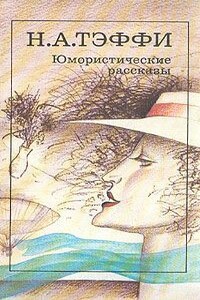
Морские сигналы

Один дома II: Потерянный в Нью-Йорке

И.В.С.

Другим Путем
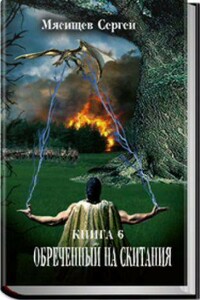
Обречённый на скитания. Книга 6.

Комната с розовыми обоями