
Мы странно встретились
- Автор: Анастасия Вячеславовна Дробина
- Жанры: Исторические любовные романы / Повесть
- Год: 2008
- Всего страниц: 162
- Статус: Полная версия
Семья Грешневых всегда была предметом пересудов уездных кумушек. Еще бы: генерал Грешнев привез с Кавказа красавицу черкешенку Фатиму и поселил ее у себя в доме. Она родила ему сына и трех дочерей, таких же ослепительно красивых, как сама. А потом ее нашли в реке, генерала — в собственной спальне с ножом в горле. С тех пор Грешневых словно кто-то проклял: беды валились на них одна за другой. Анна, Софья, Катерина… Как же молодым графиням избавиться от родового проклятья? Ведь они ни в чем не виноваты…
Читать Мы странно встретились (Дробина) полностью
Подобные книги

Душа так просится к тебе

Душа так просится к тебе

Билет на бумажный кораблик

Большая книга приключений охотников за тайнами
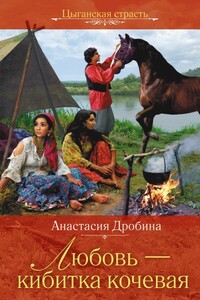
Любовь – кибитка кочевая

Сердце дикарки
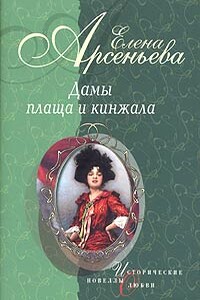
Сердце тигра (Мура Закревская-Бенкендорф-Будберг)

Распутный век

Девон: Сладострастные сновидения

Первая женщина на русском престоле. Царевна Софья против Петра-«антихриста»
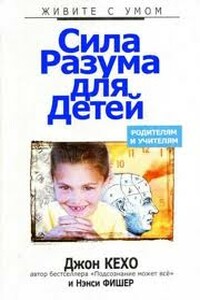
Сила разума для детей

Маг Эдвин и император

Лютик

Странная месть