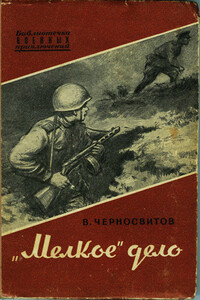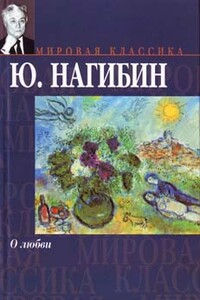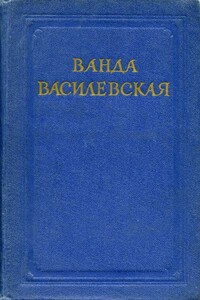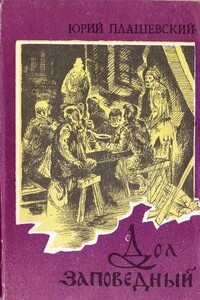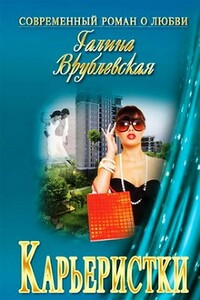Было ещё прохладно. С востока гора розовела, встретив первые солнечные лучи. На западном же склоне, в густых кронах деревьев, ещё таились утренние сумерки.
В небольшом парке дорога разбежалась в разные стороны небольшими аллейками. Выбрав одну из них, Захаров уверенно пошёл дальше, в гору, и вскоре очутился на ровной, как биллиард, и такой же зелёной поляне, обрамлённой кустами.
– Ишь ты, как красиво! – окинув взглядом поляну, удивился сопровождавший Захарова солдат Соболь – коренастый, мускулистый, добродушнейший сибиряк.
Захаров и Соболь пересекли поляну и у подножия земляного конуса наткнулись на развалины древней каменной стены с бойницами и чуть дальше – на серого каменного льва, сидящего на таком же сером квадратном постаменте. Передними лапами лев держал щит, на котором едва сохранился высеченный когда-то герб. Сам лев выглядел не лучше: камень источен ветрами и дождями, линии давно потеряли чёткость, а пальцы на лапах, левое ухо и ноздри были вовсе отбиты.
Захаров и Соболь долго разглядывали льва и развалины стены.
– А где же Высокая Крепость, товарищ капитан? – спросил, не сдержав любопытства, Соболь.
– Вот это она и есть. Вернее – то, что от неё сохранилось, – ответил Захаров и рассмеялся, прочитав на лице солдата откровенное удивление и разочарование.
Карабкаясь по крутизне, они отправились на вершину конуса и вскоре очутились на «пятачке» – маленькой круглой площадке, похожей на цирковую арену.
– Смотрите, Соболь! – указал Захаров.
Перед ним, далеко внизу, раскинулся большой старинный украинский город. В этот ранний час он ещё не был отчётливо виден: его кварталы, парки и бульвары затянуты утренним туманом, который лениво и вязко стлался, скрадывая очертания домов и улиц. Отсюда, с уже озарённой солнцем вершины, эти медлительные свинцово-серые клубы в первый момент казались мрачными, но вот солнце приподнялось из-за Высокой Крепости, и в его луче ярко вспыхнул алый флаг. Большое красное полотнище, два дня назад установленное на башне ратуши руками советских солдат, гордо развевалось над освобождённым городом. И как бы развеянный шёлковым полымем, туман немощно поблёк, заметался и растаял – глазам Захарова и Соболя открылась чёткая, красивая и светлая панорама города.
Казалось, не солнце, а флаг бросил на город свои лучи и, разогнав хмарь, раззолотил улицы, дома и парки весёлой позолотой июльского утра.
Картина эта представилась Захарову почти символической: вот так же, как этот только что рассеявшийся туман, город ещё окутывала неизвестность, – ещё не выяснено настоящее имя того или иного жителя, не установлено пока, почему не удрал с фашистами В., а удрал Б., и удрал ли он действительно или живёт где-нибудь в самом центре под иным именем. Ещё липла в укромных уголках города, как вот эти клочья тумана, разная дрянь, ещё в радостно улыбающейся праздничной толпе нет-нет да и вспыхивали из-за чьей-нибудь спины горячей ненавистью чьи-то злобные, колючие глаза, ещё раздавались в сумерках одиночные выстрелы из-за угла. Но уже третий день полыхал над городской ратушей алый флаг освобождения, и с каждым его трепыханием рассеивались и таяли клочья гнилого тумана диверсий, шпионажа и террора.