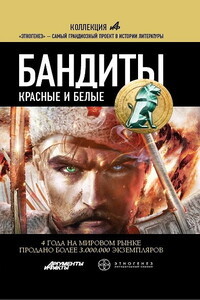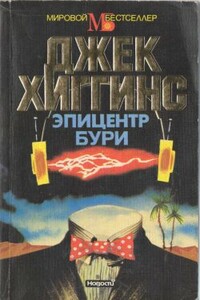Дотай, старый мельник, помер буднично, без напутствий и исповеди: выгнал утром гусей на выпас, вернулся во двор, сел на крылечко — и помер.
Поскрипывало мельничное колесо, жизнь шла своим чередом: Захар, теперь уже Дотай-старший, в свежей робе молол рожь хуторянам; Агафья, его жена, кормила двойню; Федька и Петруха сонно почмокивали; Сила, младший брат Захара, из хлева тайком поглядывал на Агафьины титьки и тяжко вздыхал. А на крылечке сидел себе тихонько дед Алим, подперев мёртвой рукой мёртвую голову, и никто не знал, что он помер.
Силантий закончил вычищать хлев, запер скотину, пощурился на солнце, так кстати выглянувшее из прорехи в августовских тучах, и заметил отца сидящим на крыльце.
— Бать, чё там твоя поясница говорит: будет погода, не будет?
Алим не ответил младшему, а по-прежнему смотрел куда-то за мельничный пруд, будто что там увидел.
Не дождавшись ответа, Сила пожал плечами: всё-таки восемьдесят лет старику, мог и не расслышать. Подойдя ближе, младший Дотай громко повторил, но жирная навозная муха, ползающая по глазам бати, куда как красноречиво известила о кончине Алима Сильвестровича.
Растерявшись, Силантий чуть было не кликнул Агафью, однако в последний момент захлопнул пасть, да ещё и перекрестился. Вместо этого он вышел со двора, спустился к мельнице и позвал брата.
Захар без спешки и паники дал указания работникам, сам же, в сопровождении Силантия и Володьки, своего первенца, вернулся домой, где застал Алима в той же позе, в какой оставил его Сила.
Не успевшее окоченеть тело родителя братья перенесли в избу, уложили на стол, Володьку отправили за бабками: обмывать, переодевать да оплакивать.
Потом братья вышли на крыльцо, закурили, и Захар постановил:
— Хорошо батя помер.
Силантий согласился.
Когда в Рогалях объявился отец Симеон, немногим по нраву пришёлся облик нового благочинного… чего уж говорить, никто и не признал попа в тщедушном и низкорослом выпускнике Орской семинарии — ему ведь от силы годков двадцать на вид, какой это поп?
Однако священник оказался куда как непрост. Ровнёхонько в полдень постучался он на подворье старосты Левонтия Лобанова, и свирепый пёс Кусай не только не обложил незваного гостя по-собачьи самыми последними облайками, но вдруг разрезвился, как месячный кутька, завилял обрубленным наполовину хвостом и ласково запоскуливал.
— Доброго здоровьичка, — по-светски шаркнул ножкой поп, когда озадаченный поведением Кусая Левонтий отворил воротину, издавшую при этом зубовный скрежет. — Вы ли Левонтий Ильич, староста рогалёвский?
— Ну я, — Лобанов наклонил голову и прищурился, дескать, не может разглядеть, что за мышь там пищит, и его, старосту, беспокоит.