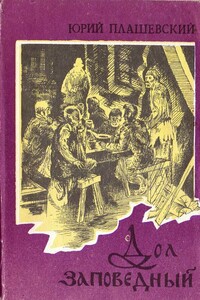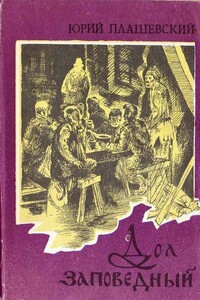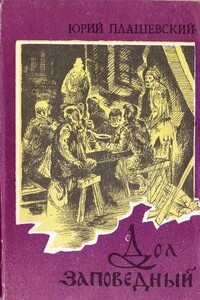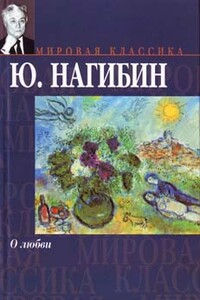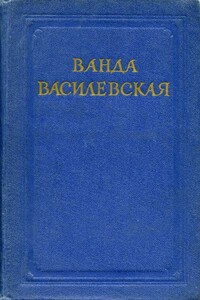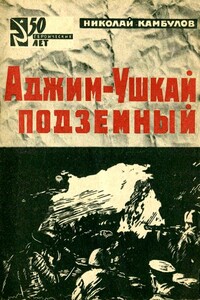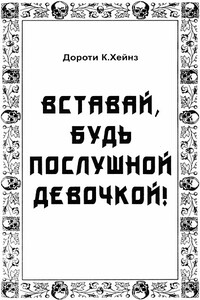I. Беседа за вином и рыбой
На Святой Руси было.
Сидели раз, поздним летом, при царе Иване Васильевиче, при Грозном, — за Окой, у Суры-реки, на проезжем дворе, под вечер, проезжие же разные люди.
Сидели, по летнему, значит, по теплому времени, на воле, на лавках, за дощатым столом, врытым в землю. В сумерках видна была поодаль изба и стоявшие возле нее расседланные лошади, и слыхом слыхать было, как вздыхали и всхрапывали, и подброшенное в яслях ворошили сено, и хрупали его, и дух оттуда шел приятный, конский.
Баба-стряпуха, молодая и в теле, готовила рядом на летней печке всякую снедь и носила, ставила тем проезжим на стол миски с едой и жбаны с пивом. Посередине горел на столе глиняный светец, и поверх у него качался красный язык, освещая носы, лбы, бороды, губы. И глаза блестели красно, играли, отражая пламя.
Пиво пили жадно. А у которых были еще с собой сткляницы с вином, и они его наливали в чарки, и перед едой прихватывали.
И вот, хватив раз этак чарку, один толстый отдулся, очистил зубок чеснока, со смаком, с хрустом его сжевал, крякнул, потянул ложкой горячую уху из миски, потом оправил усы, бороду, заговорил басом, тихо:
— Был я на Москве. Москва хороша, красна. И видел там — казнь.
После тех его слов было за столом некоторое молчание, а затем другой, насупротив, худой и носатый, прожевав пищу, сказал, будто укоряя:
— Был, значит, в раю, а видел — беса.
— Это как же так, и почему — беса?
— Потому, что когда людей казнят, мучают, это бесу — в радость.
Первый, то есть толстый, принялся сказанное обдумывать. Опять взял чеснок, стал грызть.
Тут вмешался третий, с бородавкой на носу:
— Смотря какие люди.
— Это почему — какие? Человек, он и везде человек.
— Потому. Иной, верно, — человек. А иной — на себя напускает: едет, говорят, дядя из Серпухова, бороду гладит, а денег — нет.
Толстый перестал жевать, сказал:
— Это ты к чему? Про меня, да?
— Почему — про тебя?
— Так я ж еду? Или нет?
— А откуда едешь-то?
— Ну, из Москвы. Или не слыхал?
— Так не из Серпухова ж.
Толстый погрозил пальцем:
— Знаем вас… — и замолчал.
Опять стали уху хлебать. А они хороша была, из монастырской, озерной рыбы.
— Ну, так что там за казнь случилась? — спросили с другого конца, из темноты. И слышно было, что вопрошавший пил пиво и крякал, а спрашивал более от скуки.
— Казнил царь на Красной площади которых ближних своих. И которых казнил, самые те вышние и были.