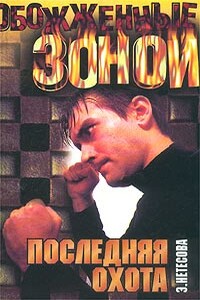
Последняя охота
- Автор: Эльмира Анатольевна Нетесова
- Жанр: Боевик
- Год: 2003
- Всего страниц: 252
- Статус: Полная версия
Они встретились за колючей проволокой — БАНДИТ, СТУКАЧ и бывший МЕНТ. Трое заклятых врагов, издавна мечтавших убить друг друга, — и наконец получивших такую возможность! Но теперь, похоже, враги сумеют выжить ТОЛЬКО ВМЕСТЕ. Ведь только вместе эти трое не погибнут в аду колымских лагерей. Только вместе сумеют они совершить дерзкий побег из неволи! Говорят — от ненависти до любви один шаг. Но — СКОЛЬКО же шагов от ненависти до ВЕРНОЙ ДРУЖБЫ?
Читать Последняя охота (Нетесова) полностью
Подобные книги
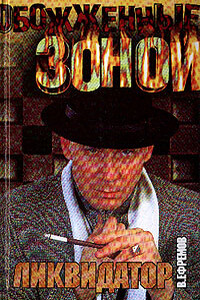
Ликвидатор
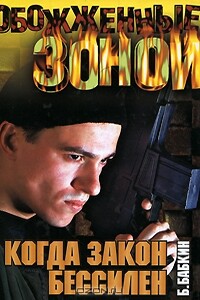
Когда закон бессилен
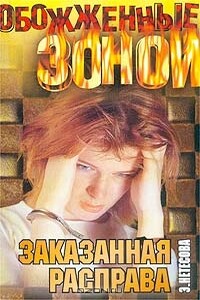
Заказанная расправа

Месть фортуны. Дочь пахана
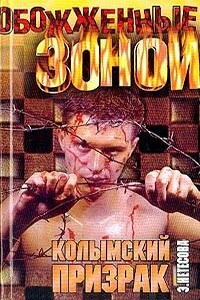
Колымский призрак

Расплата за жизнь
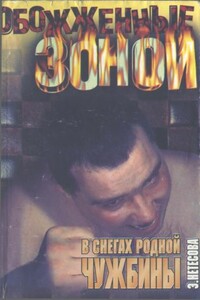
В снегах родной чужбины

Утро без рассвета. Сахалин

Юг-Север

Я гангстер!

Весна пришла

Сестры. Мечты сбываются

Неназначенные встречи
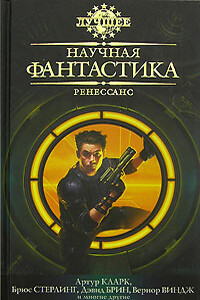
На линии Ориона

Королевская кровь. Книга 1

Мировой порядок